Конечно же, вопрос этот Церковью был уже неоднократно осмыслен и вполне ясно разрешен. Как бы мы ни относились к исторической загадке: действительно ли имело место осуждение Оригена и его эсхатологии на V Вселенском соборе2— эта проблема, имеющая безусловный научный интерес, все же не имеет никакого интереса практического и канонического, ввиду того, что осуждение эсхатологических воззрений оригенистов прозвучало на двух последующих Вселенских соборах3. Тем самым Церковь весьма определенно выразила собственное крайне негативное отношение к идее оригеновского апокатастасиса.
Однако, наряду с апокатастасисом Оригена, нам известны и другие варианты учения о «восстановлении всего», на первый взгляд более или менее сходные с мнением древнего александрийского дидаскала. Оставляя в стороне вопрос о зависимости эсхатологических взглядов Оригена от его предшественника Климента Александрийского4, обратимся к более поздним эпохам. Здесь следует назвать двух Отцов Восточной Церкви — святителя Григория Нисского и преподобного Максима Исповедника. Оба они говорят о грядущем апокатастасисе, и как раз на их суждения ссылаются ныне многие богословы и патрологи при защите самой идеи возможности прощения Богом всех согрешивших и отпавших от Него тварей.
При этом современные сторонники такого учения иногда стремятся показать последовательную преемственность взглядов этих двух Святых Отцов от оригеновской традиции, выстраивая следующую цепочку: Ориген — святитель Григорий Нисский — преподобный Максим Исповедник5.
Представляется, что путь к ответу на вопрос: действительно ли существует такая явная преемственность двух Святых Отцов в их учении об апокатастасисе грешников от Оригена? — лежит в области анализа и оценки именно антропологических воззрений как святителя Григория, так и преподобного Максима.
Здесь следует заметить, что тему судьбы человечества после Второго Пришествия Христова и вопрос о состоянии людской природы в реальности Нового Неба и Новой Земли зачастую принято выносить «за скобки» собственно антропологической проблематики, переводя ее в область эсхатологии. Однако такой подход оставляет некую недоговоренность, незавершенность в богословской науке о человеке, тем самым умалчивающей о исполнении Божественного замысла, которое осуществится после конца времен в отношении полноты человечества. Тем более, что под апокатастасисом, как мы увидим в дальнейшем, некоторые Святые Отцы подразумевают не столько восстановление ипостаси, личности, сколько восстановление природы человека. Тем самым апокатастасис в их учении соприкасается со строго антропологической проблематикой.
Что касается сопоставления первых двух имен в предлагаемой многими патрологами цепочке богословской преемственности: Ориген — святитель Григорий Нисский, то в их отношении необходимо подчеркнуть следующее: два апокатастасиса этих древних писателей исходят из совсем разных посылок (хотя здесь все же присутствуют некие точки соприкосновения — уже вне сугубо антропологической проблематики — в учении о конечности зла6). Для Оригена апокатастасис грешников есть отрицание человека как такового и торжество ангелологии (скорее даже пневматологии — как учения о свободных духах, охладевших, облекшихся в плоть, и призванных освободиться от своей антропологической составляющей). Для него апокатастасис есть одновременно торжество свободы выбора духов, и свобода от их искаженной грехом природы — будь то природа ангельская или человеческая7. Для святителя Григория, напротив, апокатастасис есть торжество божественного замысла о человеке, торжество богообразной и богоподобной природы в полноте всего человечества. При этом подлинную свободу выбора в деле всеобщего восстановления он, как мы это увидим в дальнейшем, в отличие от Оригена, наоборот, отрицает. Вместе с тем (и об этом следует упомянуть сразу) оба писателя, исходя из совершенно различных посылок, приходят к одному и тому же конечному эсхатологическому выводу, вступающему в противоречие с позднейшим общецерковным суждением: Бог спасет всю полноту разумных тварей, очистит их от зла и дарует им блаженство8.
Как уже говорилось выше, святитель Григорий делает подобный вывод, исходя из своей антропологии. Более того, учение об апокатастасисе становится для него необходимым и неизбежным следствием весьма детально разработанного им учения о человеке: без апокатастасиса его антропология — в том виде, в котором ее формулирует Нисский Святитель — просто не могла бы существовать и оказалась бы внутренне противоречивой. Попробуем выяснить антропологические предпосылки учения святителя Григория об апокататастасисе и проследим за ходом его мысли при развитии им этой теории.
Святитель Григорий строит своеобразную, очень оригинальную антропологическую систему, исходя из ряда взаимозависимых утверждений.
1) Во-первых, в отличие от большинства других Отцов и учителей Церкви (включая того же Оригена9), святитель Григорий считает, что человек изначально сотворен как по образу, так и по подобию Божию10. При этом, следует отметить, что при более пристальном изучении данного вопроса, все же не складывается впечатление, что эти термины — «по образу» и «по подобию» — являются для Нисского Святителя синонимами. Скорее они гармонично друг друга взаимодополняют. Для святителя Григория, как и для многих других Отцов Церкви, образ есть отражение Божественных качеств в человеческой природе, а подобие — суть соответствие человека (в меру его совершенства) этому образу11. Однако, — и в этом, как мне видится, заключается важное отличие учения святителя Григория от взглядов большинства древних Отцов, — подобие, равно как и образ, по мысли Нисского Святителя, изначально даровано человеку, созданному в полноте святости и совершенства, то есть освященному изначально. Причем и образ и подобие — как качества людского естества — уже принадлежали нашей природе при творении. Тем самым, подобие отнюдь не мыслится Святителем как самореализация богообразности через богоуподобление, постепенно происходящая в каждой конкретной человеческой ипостаси.
Так, в сочинении «О девстве» Нисский Святитель говорит: «Не наше дело и не силою человеческою достигается подобие Божеству, но оно есть великий дар Бога, Который вместе с первым рождением тотчас же дает естеству нашему Свое подобие». Вот к этому-то состоянию, в которым мы пребывали при творении, и призван возвратиться христианин, «соделавшись опять таковым, каковым был сотворен в начале»12. Мы видим, что, по святителю Григорию, подобие — естественный и изначально данный нам благой способ бытия нашей природы, соответствующий заложенной в нее богообразности.
Итак, с первого момента творения человек уже был совершенным; при этом и образ и подобие — как уподобление Первообразу — равно присущи людям от начала. Вместе с грехопадением человек лишается своего богоподобия, но ныне он призван его восстановить, по дару Божию, в собственном естестве13.
Здесь следует подчеркнуть, что та цель самореализации людского рода, которая будет достигнута в финале истории человечества, всегда мыслится святителем Григорием равной начальному состоянию бытия человеческой природы в первых людях. Мы — люди, живущие в уже искупленном Христом мире, — отнюдь не должны превзойти в нашем духовном совершенствовании Адама, но призваны лишь сравняться с ним, вернуться на один уровень с нашими прародителями14.
При этом Спасение понимается святителем Григорием именно в смысле восстановления утраченного совершенства полноты всей человеческой природы — как единого естества всех людей, естества, существующего и реализующегося во множестве индивидов15
И здесь мы соприкасаемся с другим важнейшим понятием в антропологии святителя Григория: с его учением о полноте человеческой природы.
2) Человеческая природа, по святителю Григорию, является некоей самодостаточной данностью, нераздельной, всецелой, не раздробленной, хотя и обладающей в отношении себя множеством причастников — конкретных людей. При этом само понятие «человек» является для Святителя определением не личности, но именно природы. Строго говоря, словосочетание «три человека» нельзя использовать в богословии именно потому, что словом «человек» определяется не личность, но общая для всех индивидов совокупность их естественных признаков. Окажется ли рядом с нами много людей или всего один, мы все равно должны называть их одним человеком16.
Кстати говоря, именно из этой логики следует доказательство святителем Григорием правды единобожия. Ведь Три Божественных Ипостаси точно также единосущны друг другу, как и представители человеческого рода, и при этом гораздо более тесно связаны между Собой, чем мы. Таким образом, поскольку Отец, Сын и Святой Дух обладают единой природой, эти Три Божественные Ипостаси нельзя именовать тремя Богами, но Единым Богом17
Итак, святитель Григорий мыслит все человечество как единую природу. Эта природа, по его убеждению, творится еще прежде, чем Бог создает первого человеческого индивида — Адама. Таким образом, по святителю Григорию, творение человека состоит из двух актов: идеального творения человека — как полноты человеческой природы, объемлющей собой всех еще не созданных конкретных людей, а затем реального творения Адама и Евы18.
При этом, по Божественному замыслу, в человечестве предусмотрено точное число рождений, а значит и конкретное число душ, индивидов, составляющих и реализующих в своей сумме полноту людской природы. Так оказывается определена Святителем одна из важнейших целей бытия и самореализации человеческого рода, в исполнении которой заранее полагается предел ходу земной истории19.
Важно отметить, что, по святителю Григорию, образ Божий относится не столько к каждому конкретному человеку, сколько к нашему естеству20 и даже точнее — к нераздельной природной полноте всего человеческого рода21. Большинство древних Святых Отцов говорят о том, что по образу Божию были сотворены именно наши прародители, первые жившие на земле люди — Адам и Ева. Именно они были изначальными носителями такой природной полноты. Святитель Григорий считает иначе: прежде чем был создан первый человек, по образу Божию уже была сотворена универсальная людская природа.
Заметим, что такое своеобразное учение отнюдь не предполагает творения некоего всечеловека, как личности, вобравшей в себя личности всех еще не родившихся людей. На это у святителя Григория нет и намека, как нет у него намека и на мнение о предсуществовании душ.
3) Третья особенность антропологического учения святителя Григория Нисского, на которую хотелось бы обратить внимание, — это его понимание человеческой воли.
Очень важно отметить, что святитель Григорий, наряду с термином «qšlhma», пользуется терминами «gnèmh» и «proa…resij»22. Первый для него означает естественное движение и усилие природы, а второй и третий — волю избирательную, свободный выбор, решение.
Такое разделение может напомнить нам богословие преподобного Максима, также противопоставлявшего волю естественную и волю избирательную. Однако здесь не все так просто: строго говоря, святитель Григорий отнюдь не является в данной стороне собственного учения предшественником Преподобного. Если для Исповедника (об этом скажем подробнее в дальнейшем) избирательная воля — над-естественна и даже противо-естественна, то для святителя Григория возможность самовластно решать — принадлежит человеческому естеству и является одной из черт людской богообразности24. Конечно же, человек — по дарованному ему Богом праву — обладает свободой выбора между добром и злом и имеет возможность стремиться или к добродетели, или к пороку. И вместе с тем, как представляется, такая соотнесенность свободы решения именно с человеческой природой как раз и является одной из антропологических предпосылок неизбежности вывода святителя Григорий о грядущем всеобщем спасении.
Попробуем теперь сопоставить три указанные характерные черты антропологии святителя Григория с его эсхатологическими воззрениями для того, чтобы убедиться в следующем: апокатастасис для Нисского Святителя является естественным и органичным следствием особенностей его учения о человеке.
Здесь уже говорилось об очевидности следующего факта: святитель Григорий исповедует идею апокатастасиса как раз в том виде, в каком это учение позднее было осуждено Церковью. При этом для него восстановление всего человечества обращено не столько на каждую конкретную личность, сколько, прежде всего, на восстановление полноты человеческого естества в том его виде, в котором оно изначально и идеально было сотворено Богом25. Некогда оно освободится от примесей присущего ему ныне животного начала и других последствий грехопадения. Среди этих последствий богоотступничества первых людей — утрата богоподобия в каждом конкретном индивиде. Если же мы при этом вспомним, что богоподобие рассматривается святителем Григорием как нечто приданное полноте человеческого естества изначально, то поймем, что и это богоподобие (как совокупность добродетелей, присущих всей полноте человечества) также должно быть восстановлено — причем вне зависимости от индивидуальных устремлений каждой личности. Без совершенного восстановления любого из людей во всечеловеческой природе, равно как и в предопределенной полноте человеческого рода, будет иметь место некая «недостача»: ведь у Бога заранее предустановленно даже необходимое число рождений — ради достижения все той же полноты.
Всеобщее возвращение к святости — без учета личностного выбора каждого из людей — необходимо и предопределено еще и потому, что, как указывалось выше, по святителю Григорию, избирающая воля в конечном итоге принадлежит не конкретному индивиду, а человеческой природе, является ее атрибутом, ее составляющей. Тем самым, при окончательном восстановлении общей полноты человеческой природы для каждого из нас попросту не останется возможности выбрать между добродетелью и богопротивлением: ведь исправление и восстановление всечеловеческой природы в ее первоначальном святом состоянии неизбежно приведет и к однонаправленности избирательной воли во всех людях — к неизбежному принятию ими Божественной Истины.
Таким образом, отдавая изначально предпочтение в своем учении о человеке категории природы и принижая при этом значение категории индивидуальности, святитель Григорий по сути «обрекает» всякую человеческую личность на механическое и неизбежное спасение — через очищение от грехов в эсхатологическом огне. Само это очищение воспринимается Нисским Святителем как некое «прижигание», изглаживающее и испепеляющее греховную болезнь, — причем даже не в личностном устроении человека, но именно в его естестве, приводимом в строгое и доброе единство с естеством всех спасенных, что уже, в свою очередь, неизбежно приведет к исправлению каждого индивида26.
Одним из условий необходимости апокатастасиса для святителя Григория является также и то, что наша человеческая природа была воспринята воплотившимся Сыном Божиим, стала с Ним едина. А раз наше естество — в своей целостности и неделимости — пребывает в каждом из людей, то, тем самым, вся полнота этой природы, став сродной Ипостаси Слова, в эсхатологической перспективе неизбежно станет «единым телом находящегося во всех Господа» и при этом покорится Отцу через Его Единородного Сына27.
Итак, мы видим, что кажущееся сходство двух учений об апокатастасисе, принадлежащих Оригену и святителю Григорию, не так уж и очевидно. Безусловно, оба они в своих рассуждениях приходят к близким выводам и результатам, но, однако, исходят при этом из разных посылок и даже противоположных принципов богословской мысли: первый полностью уничтожает человеческое естество во имя свободы индивидуального выбора разумной твари, второй — перечеркивает всякую свободу выбора во имя исполнения Божественного замысла о славе богоподобной человеческой природы. У Оригена, в его учении об апокатастасисе, антропология является, по сути, конспектом «истории болезни» бестелесных духов, а у святителя Григория, в его эсхатологии, учение о природе человека заслоняет собой и подчиняет себе все остальные области богословской мысли. Таким образом, утверждения многих исследователей о якобы присущем святителю Григорию «оригенизме» являются не слишком оправданными.
Теперь обратимся к еще одному Святому Отцу древней Восточной Церкви — к преподобному Максиму Исповеднику.
Не подлежит сомнению, что преподобный Максим в своем богословии, и, прежде всего, в учении о человеке в значительной степени зависит от святителя Григория Нисского. Известно также, что Преподобный использует в своих сочинениях термин «апокатастасис», понимая его, подобно святителю Григорию, как восстановление природы всего человечества после Второго Пришествия Христова и, более того, как исполнение природы всех людей Божественной благодатью28.
Вопрос здесь заключается в другом: насколько безоговорочно принимает преподобный Максим антропологические и эсхатологические богословские построения святителя Григория? Воспроизводит ли он их во всей полноте? Исповедует ли он тот же апокатастасис, что и Нисский Святитель?
Известно, что сам преподобный Максим однажды все же высказался по поводу учения святителя Григория Нисского об апокатастасисе, стремясь дать ему положительную оценку в своих Quaestiones et Dubia. Здесь преподобный Максим излагает различные значения понятия «апокатастасис» в его православном восприятии. Сначала Преподобный говорит о понимании апокатастасиса Церковью как о нравственном восстановлении человека через исполнение им добродетелей, а затем и о физическом восстановлении и воскресении каждого человека после Второго Пришествия. И наконец он излагает третье понимание апокатастасиса: «Третий (смысл апокатастасиса — П. М.), чаще всего употребляемый (katakšcrhtai) Григорием Нисским, — восстановление сил души, падших под влиянием греха, в то состояние, в каком они были сотворены… Надлежит, чтобы как вся природа в ожидаемое время воскресения плоти, получила нетление, так и поврежденные силы души в течение времени совлеклись укорененных в ней порочных образов, и чтобы душа, приближаясь к пределу веков, и не находя покоя, пришла к беспредельному Богу, и таким образом, познанием, а не участием в благах она воспримет обратно свои силы и окажется восстановлена (¢pokatastÁnai) в своем изначальном состоянии, и тогда станет ясно, что Создатель не является виновником греха»29.
Думается, что преподобному Максиму, скорее всего, была ясна вся спорность отдельных утверждений святителя Григория в отношении апокатастасиса, и здесь он их искусно «подправляет», «редактирует». В дальнейшем ходе изложения будет показано, что же из некогда сказанного в отношении апокатастасиса святителем Григорием оказалось для Преподобного приемлемо, а что нет. Пока же, основываясь лишь на этом приведенном речении преподобного Максима, можно утверждать следующее: Преподобный отнюдь не критикует Нисского Святителя, но, даже, напротив, принимает одну из его идей — мысль о всеобъемлющем эсхатологическом восстановлении человеческой природы.
Для того, чтобы разобраться в том, каков же, по Преподобному, эсхатологический аспект его учения об апокатастасисе (оставляя в стороне нравственный апокатастасис человека, совершающего еще в земной жизни собственное спасени, следует обратиться к антропологическим особенностям учения Исповедника — по тем же самым пунктам, что были рассмотрены здесь в связи с учением святителя Григория.
1) Образ и подобие Божии.
Преподобный Максим, в отличие от Нисского Святителя, четко противопоставляет оба эти понятия. Образ дан нам при творении, подобие же есть грядущая реализация этого образа, чего и призван достичь каждый человек в будущем — в своем стремлении к обожению31. Тем самым преподобный Максим мыслит подобие не как принадлежавшее изначально совершенной человеческой природе, но как божественное «задание», данное первым людям — Адаму и Еве. Подобие есть цель, а не изначальная характеристика человеческой природы. С грехопадением человек лишается возможности достичь подобия, но это право возвращается ему после Боговоплощения и лишь в той мере, в какой он бывает един со Христом32.
Из утверждения, что подобие является лишь грядущей перспективой всего человечества в лице его конкретных представителей, неизбежно следует, что, по преподобному Максиму, начало бытия человека в этом мире отнюдь не идентично тому состоянию, в котором он должен пребывать после конца времен. Это конечное состояние будет куда более совершенным, чем то, в котором был сотворен Адам33, хотя изначальная данность его райского бытия и описывается Исповедником в самых возвышенных чертах34.
2) Что касается природы человека, то преподобный Максим мыслит наше естество даже еще в более «широком» контексте, чем святитель Григорий. Человек осмысливается им уже не столько в категориях некоей универсальной всечеловеческой природы, но в масштабе всекосмическом. Если некогда святитель Григорий и посмеивался над идеей человека как микрокосма35, то для преподобного Максима, во многом следующего воззрениям Нисского Святителя, эта идея, напротив, исполнена подлинного величия36. Мы призваны, начав с преодоления разделений в собственной природе, в конце концов превзойти разделения уже во всей полноте творения — как разумного, так и неразумного. И именно благодаря такому будущему единству, в достигнутой вселенской гармонии и согласованности бытия твари, на все мироздание изольются потоки Божественной благодати, охватив собой и проницая все достигшее собственной природной осуществленности творение. При этом Бог по Своей благодати соединится со всем сущим именно через посредство человеческого естества — как естества навеки богопричастного и преобразившегося37.
Следует также отметить, что преподобный Максим никогда не мыслил человеческой природы вне конкретных личностных индивидов. Отсчет истории человеческого рода ведется Исповедником именно с момента сотворения Адама, а не от создания некоей всеобщей человеческой природы, как это делал святитель Григорий. Преподобный говорит скорее о предсуществовании логоса, смысла, Божественного замысла о человеке, а не о бытии предшествовавшей конкретным людям безличной природы38.
3) Что касается учения преподобного Максима о человеческой воле, то здесь он расходится со святителем Григорием самым решительным образом.
Как и святитель Григорий, Преподобный говорит о воле природной и воле избирательной. Однако для Исповедника избирательная воля не принадлежит природе. Для него существует только одна собственно присущая человеческой природе воля, проявляющая и направляющая наши естественные энергии. Именно эта воля отождествляется им со свободой в подлинном смысле этого слова39. Что же касается «gnèmh», то это для преподобного Максима воля ипостасная, причем она существует в ипостасях разумных тварей с момента их грехопадения. Гномическая (то есть избирающая, решающая) воля всегда проявляет себя в конкретном выборе, который неизбежно оказывается выбором между чем-то лучшим и чем-то худшим. В Боге такого выбора попросту быть не может, ибо Он никогда не колеблется и не имеет альтернативы в Своих решениях и действиях, — именно поэтому у Него и не может быть гномической воли. В падших же разумных существах всегда присутствует внутренняя борьба, сомнение, взвешивание всех «за» и «против». Эта борьба всякий раз завершается выбором одного из вариантов возможных действий. Такая свобода личностного выбора есть, по сути, свобода кажущаяся, ибо она противоестественна.
Как уже говорилось выше, человек, по преподобному Максиму, призван существовать и жить в соответствии со своей природой, с тем логосом естества, что заложен в него при творении, и с той целью, к которой устремлено все сущее — к единению с всевиновным Логосом, к обожению. Выбор же для него — это всегда возможность уклониться от цели, препона, препятствие на пути к единственно необходимой цели бытия твари — соединению с Богом по благодат.
Гномическая воля, существовавшая ранее лишь в потенциальной возможности, впервые проявляется в раю — как выбор между вкушением и невкушением плода от древа Добра и Зла41. Поэтому любой выбор для человека, по большому счету, — всегда выбор между добром и злом. Все это означает, что такая избирательная свобода есть, по сути, проявление греховного начала в человеке42. Она — эгоистическая и греховная воля. Она паразитирует на воле природной.
Строго говоря, гномическая воля, по преподобному Максиму, все же не вполне независима по отношению к природной. Она — личное и противоестественное использование воли природной, хотя в то же время мыслится Исповедником и как нечто привнесенно-самостоятельное. Конечно же, выбор человека не всегда плох. Но тогда это лишь означает, что в какие-то моменты избирательная воля перестает быть чистым произволом и совпадает с естественными устремлениями воли природной, действуя через ее посредство. И тогда человек начинает приближаться к тому состоянию, которого он призван достичь в приобщении к Божественной благодати. Однако это случится лишь когда избирательная воля целиком совпадет с природной (причем, как можно будет увидеть в дальнейшем, это произойдет далеко не с каждым) и, тем самым, — через прекращение злоупотребления силами естества — фактически нивелируется.
Что касается эсхатологической перспективы, то здесь преподобный Максим, подобно святителю Григорию, мыслит конечную судьбу человечества как восстановление всеобщей природы в первоначальном догреховном состоянии. Но при этом он делает важную оговорку. Восстановится только естество, а не святость произволения. Ведь в конце времен избирательная эгоистическая воля упразднится далеко не у всех разумных существ, а только у тех, кто живет в соответствии со своим логосом (присущим каждому началом естества) и стремится к обожению, у тех, кто совершает свое спасение43.
Теперь необходимо более подробно сопоставить особенности антропологического учения преподобного Максима с его пониманием эсхатологической перспективы апокатастасиса. Строго говоря, Исповедник мыслит два различных «восстановления»: 1) восстановление человека в существующем о нем Божественном замысле, в его ипостасной свободе от греха 2) и его восстановление в бытии, восстановление природы.
Восстановление в его первом значении окажется не всеобщим. Оно станет доступным лишь для тех, кто жил в соответствии с собственным логосом, кто стремился усилием воли к стяжанию благости и премудрости — как условий богоподобия и обожения. Бог положил для всех нас цель духовного движения вперед в Самом Себе, в единстве с Собой, и мы бываем способны достичь этой цели только если движемся в правильном направлении и по правильной дороге. Таким образом, пределом этого возвышающего и «восстанавливающего» нас странствия окажется Сам Творец44.
Но помимо тех, кто совершает свое Спасение, есть и те, кто по своим грехам обречены на вечную муку. Однако, по мнению Преподобного, Бог, конечно же, спасает всю вселенную, и вся тварь после конца времен окажется Ему причастна. Это приведет к апокатастасису природы всей вселенной, включающей в себя и полноту человеческой природы. Соответственно апокатастасис полноты природы мироздания неизбежно коснется и естества воскрешаемых грешников. Ведь, раз они сотворены по образу Божию, для них по прежнему останутся актуальны такие свойства собственной природы, как бытие и приснобытие, а значит, тем самым, они будут существовать и в вечности. Но при этом для них окажутся недоступны свойства торжествующей и спасенной, богоподобной и обоженной природной воли — благость и премудрость. Они по прежнему останутся вправе, пребывая в ложной противоестественной свободе, внутренне противостоять Богу и собственному природному устроению, Божественному замыслу о них.
Преподобный Максим пишет, что те, кто не прожили эту жизнь в соответствии с собственной природой, с естеством — но, наоборот, «противоприродно», «противоестественно» — греша и потакая собственным страстям, также окажутся, как это не поразительно, соединены с Богом (ведь Бог будет пребывать во всем). Однако такое единение станет для недостойных богообщения «невыразимой мукой», ибо они соединятся со своим Творцом «вопреки благодати»45. Реальность богопричастности коснется и грешников, но эта реальность не будет общением любви и наслаждения, а реальностью вечных мучений. Грешники будут знать добро, знать Бога — причем посредством личного опыта богопричастности — но по прежнему не будут пребывать с Ним в единстве любви, ощущая Его абсолютно чуждым по отношению к собственной избирательной воле, к «gnèmh».
Итак, подведем некоторые итоги в отношении учения об апокатастасисе преподобного Максима Исповедника. Для Преподобного в эсхатологической перспективе существует всеобщность восстановления единой человеческой природы во всех ее ипостасях. Однако условием спасительности такого восстановления станет реализация в каждом конкретном человеке заложенной в нем богообразности, выражаемая в достижении богоподобия, обожения. Это подобие не было дано изначально нашим праотцам, но явилось для них тем Божественным «заданием», которое им надлежало исполнить, но с которым они не справились, впав в грех. При грехопадении в человеке появилась избирательная греховная воля, самим своим существованием поставившая его перед вечной дилеммой: следовать ли ему добру или злу. В конечном итоге человеку надлежит преодолеть существующие в нем колебания воли и целиком направить свою природную устремленность к соединению с Богом. Только в таком случае для него при Втором Пришествии совершится не только апокатастасис природы, но и апокатастасис ипостаси, восстановление свободы и любви, в котором он сможет достичь вечного блаженства богообщения. Иначе открытость и причастность его природы полноте Божественной благодати, при сохраняющемся внутриипостасном бунте против собственного Творца, обречет его на вечные мучения. Та благодать, которая станет для праведников источником вечной радости, окажется для него страшной мукой, ввергающей его в вечный неугасимый огонь страданий.
Мы видим, что в богословии святителя Григория Нисского и преподобного Максима Исповедника апокатастасис понимается принципиально различно. Если в отношении первой пары рассмотренных здесь имен (Ориген — святитель Григорий) можно было говорить о совпадении эсхатологических выводов двух древних писателей при полном отличии их начальных богословских посылок, то в отношении второй пары имен (святитель Григорий — преподобный Максим) картина представляется совершенно иной. При внешнем значительном сходстве антропологической модели богословских систем святителя Григория и преподобного Максима (важно вновь подчеркнуть, что основы подхода Святителя и Преподобного к проблеме апокатастасиса находятся именно в области антропологии) оба Святых Отца приходят в своих размышлениях к совершенно противоположным выводам. И только Исповеднику при построении собственной богословской антропологической модели удалось найти «золотую середину», «царский путь» в соотношении понятий всечеловеческой природной полноты и внутренней жизни каждой свободной ипостаси.
При этом преподобный Максим, весьма почитавший и уважавший авторитет святителя Григория, пытается перетолковать его идеи и высказывания в сугубо православном смысле — соответственно тому значению, которое сам Исповедник вкладывает в понятие апокатастасиса. Вместе с тем, преподобный Максим ни в малейшей степени не принимает тех противоречащих православному вероучению богословских суждений, что в действительности присутствуют в творениях Нисского епископа: учения о всеобщем восстановлении твари после Второго Пришествия, подразумевающего не только восстановление ее природы, но и неизбежный, почти «механический» апокатастасис ее доброго произволения.
Можно думать, что основание успеха преподобного Максима в разработке им богословской проблемы апокатастасиса, разрешаемой в строго православном ключе, коренится в его оригинальном антропологическом учении о человеческой воле. Именно преподобный Максим первым из Святых Отцов ясно разделил волю природную и волю гномическую и тем самым противопоставил «нормальную» жизнь по естеству богоборческому бунту эгоистической человеческой личности, способному продолжаться даже в грядущей вечности. Развив учение о природной и гномической воле, Исповедник способствовал не только разрешению христологических споров, но и приоткрыл тайну страшной и, в то же время, дарующей радостную надежду на встречу с нашим Создателем эсхатологической будущности человеческого рода.
1 Сторонниками этого учения в ХХ столетии являлись, например, такие видные представители русской религиозной философии, как протоиерей Сергий Булгаков (См.: С. Н. Булгаков. Свет невечерний. М., 1994. Сс. 351-357), Н. А. Бердяев. Последний, в частности, пишет: «Если идея ада раньше удерживала в Церкви, то сейчас она лишь отталкивает от Церкви, как идея садическая, и мешает вернуться в нее… Я каждый день молюсь о страдающих адскими муками и тем самым предполагаю, что эти муки не вечны, это очень существенно для моей религиозной жизни» (Николай Бердяев. Самопознание. М., 1990. С. 295).


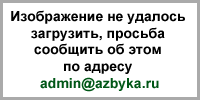
 Вероятно, одним из самых горячо обсуждаемых догматических вопросов сегодня остается вопрос о всеобщем восстановлении, об апокатастасисе[1]. Как известно, в соответствии с этим учением, все те разумные твари, что отступили от Бога и обратились ко злу, в конце времен будут очищены попаляющим их грехи огнем и через временные мучения вновь возвратятся в первоначальное святое состояние. Причем подобному исправлению подвергнутся не только грешные люди, но и демоны, и даже сам сатана.
Вероятно, одним из самых горячо обсуждаемых догматических вопросов сегодня остается вопрос о всеобщем восстановлении, об апокатастасисе[1]. Как известно, в соответствии с этим учением, все те разумные твари, что отступили от Бога и обратились ко злу, в конце времен будут очищены попаляющим их грехи огнем и через временные мучения вновь возвратятся в первоначальное святое состояние. Причем подобному исправлению подвергнутся не только грешные люди, но и демоны, и даже сам сатана.